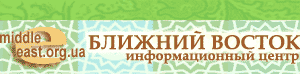Среди немногих стран, которые сегодня активно пытаются
сблизиться с Россией, видное место занимает Исламская республика Иран. И это
весьма примечательно.Ведь в недалеком прошлом именно Советский Союз всячески
стремился к "взаимопониманию" с Тегераном, а лидеры исламской революции
держали дистанцию
 Теперь же, как представляется, роли переменились. Хотя наша
страна и идет на сотрудничество с Ираном, делает она это явно с оглядкой, как
бы опасаясь то ли Соединенных Штатов, то ли исламского экстремизма. Между тем
для долгосрочного и эффективного планирования российской внешней политики со
всеми связанными и связываемыми с Ираном проблемами необходимо разобраться.
Ведь сегодня эта страна объективно имеет и для нас, и для всего мира такое
значение, которое трудно переоценить. Теперь же, как представляется, роли переменились. Хотя наша
страна и идет на сотрудничество с Ираном, делает она это явно с оглядкой, как
бы опасаясь то ли Соединенных Штатов, то ли исламского экстремизма. Между тем
для долгосрочного и эффективного планирования российской внешней политики со
всеми связанными и связываемыми с Ираном проблемами необходимо разобраться.
Ведь сегодня эта страна объективно имеет и для нас, и для всего мира такое
значение, которое трудно переоценить.
Иран занимает обширную территорию между Турцией и Ираком на
западе, Афганистаном и Пакистаном на востоке, Персидским заливом на юге, а
также Каспийским морем и еще недавно советскими Азербайджаном, Арменией и
Туркменистаном на севере. Кроме того, несмотря на распад СССР, Россия и Иран
остались соседями и в Каспийском море, до последнего времени формально
совместном владении всех прибрежных стран, и на армяно–иранской и армяно–туркменской
границах, охраняемых российскими пограничниками.
Многомиллионное население Ирана – этнически одно из самых
пестрых в мире – связано родственными узами с населением бывшего советского
юга (Закавказья, Центральной Азии), а также Ближнего и Среднего Востока (региона,
протянувшегося от Восточного Средиземноморья до индопакистанского
субконтинента). Персы, ведущая этническая группа, (примерно половина населения
страны) объединены общностью или близостью языка с таджиками Таджикистана и
Афганистана, пуштунами Афганистана и Пакистана, курдами как самого Ирана, так
и Турции и Ирака. Курды и другие неперсы Ирана, прежде всего азербайджанцы и
арабы, имеют по ту сторону государственных границ крупные родственные группы.
Одни из таких "знатных родственников" обладают собственной государственностью
(азербайджанцы, арабы), другие ее добиваются (курды). Взаимная
заинтересованность Тегерана и Москвы в предотвращении или, по крайней мере,
ослаблении этнической напряженности по обе стороны бывших советских границ
создают сегодня такую основу для сотрудничества наших стран, которой не было
никогда прежде.
Большие запасы нефти и газа, значительный промышленный
потенциал объективно превращают Иран и в партнера, и конкурента России, для
которой после падения коммунистического режима завоевать позиции на мировом и
региональных рынках чрезвычайно важно.
Иран сегодня – единственная страна мира, где ислам
выступает в роли государственной идеологии, санкционирующей одновременно и
существующую власть, и радикальные перемены. Отсюда значительное воздействие
страны на формы современной политизации ислама – процесс, который затрагивает
жизненные интересы многих стран, в том числе и России.
Противники–союзники
Еще в прошлые века, когда Российская, Иранская и Османская
империи соперничали на Кавказе, отношения между Россией и Ираном отличались
противоречивостью. Воюя между собой, наши страны нередко волей–неволей
выступали вместе против османов, которые, укрепившись на Балканском
полуострове и завоевав почти весь Арабский Восток, не раз пытались "поглотить"
и Иран. На сложный "треугольник" взаимоотношений между тремя державами немалое
воздействие оказывал раскол мусульман на суннитов (большинство) и шиитов (меньшинство),
в глазах друг друга нередко более опасных, чем иноверцы. В то время как в
Османской империи господствовали сунниты, в Иранской – шииты.
В XX веке Российская и Османская империи ушли в прошлое.
Иранская же, хотя формально и сохранилась, сузилась территориально и, утратив
статус ведущей державы, не раз фактически лишалась и независимости. На месте
Российской империи возник СССР, унитарное тоталитарное государство. Этот, по
убеждению коммунистов, прообраз грядущего устройства мира в борьбе за
распространение своего влияния не брезговал ничем, в том числе и откровенной
экспансией. Правда, в отличие от царских времен, экспансия выступала в форме
не откровенных территориальных захватов, а содействия или даже экспорта
мировой революции.
Несущей конструкцией советской империи, скрепленной единым
стержнем – КПСС, служили 15 "равноправных союзных республик". Границы и
межэтническую структуру каждой из них коммунисты целенаправленно строили так,
чтобы лишить местные общества даже потенциальной возможности выступать единой
силой против всемогущего Центра. Более того, статус той или иной этнической
группы (на базе которой коммунисты нередко, вопреки местным традициям
полиэтничной государственности, создавали "союзную республику") прямо зависел
от того, в какой мере она вписывалась во внутреннюю и внешнюю политику СССР.
Что же касается 8 республик советского юга (Азербайджана, Армении, Грузии,
Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана), то все они
создавались и для укрепления советской власти, и революционизирующего
воздействия на Ближний и Средний Восток.
Особое внимание при этом уделялось республикам,
расположенным непосредственно на советской границе и имевшим по ту ее сторону
весьма крупные группы "этнических родственников". Среди таких контролируемых
коммунистами государственных образований видное место занимали Азербайджан и
Таджикистан, ведь в соседних Иране и Афганистане проживало большинство
азербайджанцев и таджиков всего мира. Правда, в отношении Афганистана идеи
экспорта "этнической революции" во времена Советского Союза остались
нереализованными. Причины тому – долгая борьба с басмачеством, главной
этнической базой которого служили таджики по обе стороны советско–афганской
границы, и заинтересованность в союзе с пуштунами, которые держали под
контролем таджиков в Афганистане и составляли значительную часть мусульман
сначала Британской Индии, а потом Пакистана.
В отношении же Ирана эти планы вступали в стадию
практического осуществления. Так, в середине 40–х годов (когда на севере Ирана
находились советские, а на юге английские войска, введенные после нападения
Германии на СССР) Сталин санкционировал создание здесь Азербайджанской
республики, ориентированной на воссоединение с советским Азербайджаном.
Немалую ставку кремлевский стратег делал и на иранских курдов, готовых в
стремлении к собственной государственности прямо опереться на советское
вмешательство. После вывода из Ирана (под давлением Соединенных Штатов)
советских войск, как, впрочем, и английских, восстановления Тегераном своего
суверенитета на всей территории страны, и особенно смерти Сталина, его
преемники предпочли забыть (по крайней мере временно) о подобных попытках. Но
потенциальная угроза осталась.
Как известно азербайджанцы – это тюрки, этническая общность,
охватывающая также турок, туркменов, узбеков, киргизов, казахов. Все они после
ухода в прошлое Российской и Османской империй получили свою государственность:
турки в Турции, остальные в СССР. Естественно, становление государственности
на базе тюркских этнических групп (пусть в советском варианте по существу
формальное) не могло не затрагивать иранских азербайджанцев, даже при
отсутствии прямого вмешательства извне. Проживая в непосредственной близости
от населенных тюрками районов Советского Союза и Турции, они нередко ощущали
на себе не только повороты, но и малейшие нюансы в политике обоих государств в
тюркском вопросе. Главным лицом, действующим и здесь весьма противоречиво,
выступал СССР. Разыгрывая или "держа про запас" "азербайджанскую карту", он в
то же время крайне негативно относился к пантюркизму, призывавшему к
политическому объединению всех тюрков, в том числе советских и иранских.
Одновременно во внешней политике Турции, ставшей союзницей США, иной раз
проявлялись пантюркистские тенденции или, по крайней мере, настроения.
Наряду с Советским Союзом и Турцией, свое воздействие на
этническую ситуацию внутри Ирана оказывала и Англия. Подчинив своему влиянию
арабские монархии Персидского залива и возникшее на развалинах Османской
империи арабское государство Ирак, она поощряла сепаратизм среди арабов юга
Ирана – самого нефтеносного района страны.
На фоне реальной или потенциальной угрозы "этнической
интервенции" главными рычагами сохранения единства иранского государства
служили четыре фактора. Во–первых, приоритет феодально–патриархальных связей
между кланами, принадлежащими к различным этническим группам, над
взаимоотношениями между этими группами. Во–вторых, опасения Москвы и Лондона
относительно усиления друг друга в случае раздела Ирана. В–третьих, нежелание
Москвы превращать в своих врагов сторонников единства страны среди местных
радикалов (прежде всего коммунистов), а Лондона – среди консерваторов. В–четвертых,
небезуспешные поиски правящими кругами Ирана внешнеполитического противовеса и
Советскому Союзу, и Англии.
С середины 50–х годов таким покровителем Тегерана стали
Соединенные Штаты, которые оттеснили Англию, вскоре фактически переставшую
быть империей, с авансцены иранской политической жизни. Вашингтон, считавший
монархический Иран препятствием на пути коммунистической экспансии, побудил
шаха приступить к ускоренному развитию в стране капитализма западного образца.
Что же касается советских лидеров, то они явно пришли к выводу о
целесообразности в интересах мировой революции укрепления в Иране таких сил,
которые выступали бы одновременно за сохранение единства государства,
антикапиталистический курс внутри страны и антизападную политику на мировой
арене.
На этом фоне в 60–70–е годы роль курдской, и особенно
азербайджанской, проблем в Иране стала резко падать, в то время как арабской
постепенно возрастать. Со второй половины XX века арабский мир, освобождаясь
от колониальной зависимости, начал активно выступать влиятельной политической
силой. Традиционный "покровитель" арабов – Англия – потеряла прежние позиции
во многих арабских странах, в том числе и в Ираке. Поддержанный СССР
панарабизм, возглавленный Египтом, призывал арабов объединиться перед лицом
противников, прежде всего союзника США и Израиля, в единую политическую силу.
Для противодействия угрозе собственным интересам во всем районе Персидского
залива и в частности среди своих арабов шахский Иран, с благословения
Вашингтона, счел целесообразным активно развивать, хотя и не совсем официально,
отношения с еврейским государством. После ухода Англии из Персидского залива
Тегеран в качестве превентивного удара по панарабизму захватил три небольших
острова в проливе между Персидским заливом и Индийским океаном, прежде
находившихся под английским контролем и имевших важное стратегическое значение.
В отличие от северных границ с Советским Союзом, западных с
Турцией и Ираком, южных с Персидским заливом, восточная граница с Афганистаном
и Пакистаном, с точки зрения внешнеполитических вызовов, никогда не порождала
у шахского Ирана серьезных опасений.
Правда, Кабул имел давний спор с Тегераном по поводу
распределения вод одной из пограничных рек. Но нейтральный Афганистан, слишком
слабый, слишком бедный, погруженный в свой старый спор с Пакистаном о праве
пакистанских пуштунов на самоопределение, не мог, да и не хотел бросать
серьезный вызов Ирану. Еще меньшей угрозой для внутренней стабильности в строй
выступал Исламабад, в отличие от Кабула связанный союзническими отношениями и
с Тегераном, и с Вашингтоном.
Исламизм и прагматизм
Свергнувшая шахский режим исламская революция, на первый
взгляд, превратила ислам в определяющий фактор внешней и внутренней политики
Ирана. Между тем, если присмотреться внимательнее, можно обнаружить, что в
исламской упаковке действуют прежние региональные и этнические ориентиры. Курс
на союз с США заменил антиамериканизм. Но в рамках этого глобального сдвига
нетрудно заметить то же стремление защищать специфические государственные
интересы, что и во времена союза с Вашингтоном. Более того, в ряде случаев
именно исламская форма и радикальная смена взаимоотношений с Соединенными
Штатами позволили защищать их значительно успешнее, чем при шахе.
Как известно, в свое время важнейшим стимулом ирано–американского
альянса стала заинтересованность иранцев сохранить единство страны перед лицом
вызовов извне. К концу 70–х годов этой угрозы фактически уже не существовало.
Более того, сам союз с Вашингтоном и проведение проамериканской внутренней и
внешней политики стал представлять угрозу для Ирана. Быстрое разрушение
феодально–патриархальных связей без учета традиций страны (прежде всего
огромной роли религии) резко обострило социальные и межэтнические противоречия.
Роль младшего партнера Вашингтона на фоне повсеместной суверенизации Ближнего
Востока выглядело уже не жизненной необходимостью, а унизительной обузой.
В этих условиях, естественно, возникла потребность в такой
идеологической силе, которая, укрепив иранское государство, одновременно
санкционировала бы необходимые радикальные перемены в его внутренней и внешней
политике. Отсутствие в Иране сильных светских оппозиционных организаций,
разгромленных шахом с помощью тех же американцев, глубокие национальные корни
антишахского движения, гибкость ислама (особенно у шиитов), позволяющая
отражать и объединять интересы самых различных сил, умелое руководство Хомейни,
– все это придало иранской революции характер религиозно–политического
движения.
Фанатичный антиамериканизм, типичный для первых лет после
свержения шаха, – результат не только и не столько той роли, которую играли
здесь Соединенные Штаты. Дело в том, что сама Исламская республика в целях
воссоздания единства иранского общества оказалась глубоко заинтересованной в
постоянном воинствующем противопоставлении себя светским государственным
системам, ярчайшим символом которых для иранцев и стали США.
Скрытый за ширмой фанатизма прагматизм легко обнаружить и в
подходе лидеров исламской революции к палестинской проблеме. Как известно,
после свержения шаха иранская позиция в этом вопросе кардинально поменялась –
из произраильской превратилась в антиизраильскую. Исламское руководство Ирана
не только не поддерживает каких–либо связей с Израилем, но и отказывается
признать его в любых границах. И это при том, что в отличие от шахских времен
некоторые арабские страны признали, а многие готовы признать еврейское
государство.
Казалось, позицию Исламской республики можно объяснить лишь
фанатизмом. Но если рассматривать ситуацию с точки зрения традиционного
противостояния Ирана и панарабизма, то эта позиция, напротив, представляется
весьма прагматичной.
Как известно, одновременно с крахом объединительных планов
арабских государств Восточного Средиземноморья (Египта, Сирии) и разрушением
общего фронта арабов против Израиля панарабизм постепенно набирал силу в
Персидском заливе. Именно здесь 7 арабских княжеств создали прочное
межгосударственное образование – Объединенные арабские эмираты (ОАЭ), до сих
пор единственную успешно действующую конфедерацию в мире. Впоследствии эта
конфедерация вместе с пятью другими арабскими монархиями района, во главе с
Саудовской Аравией и Кувейтом, образовала Совет сотрудничества арабских
государств Персидского залива (ССАГПЗ), координирующий усилия в экономике и
политике (в частности, в военной сфере).
Тенденция смещения фокуса панарабизма с Палестины на
Персидский залив (который в арабских странах, кстати, называют Арабским)
сопровождалась заменой главных внешнеполитических покровителей движения (вместо
СССР Соединенные Штаты) и его основных противников (место Израиля занимал Иран).
Откровенно антииранская направленность местного панарабизма проявилась в ирано–иракской
войне. Начавший военные действия Багдад, получив поддержку местных арабских
монархов, открыто заявил о стремлении в борьбе с Ираном защитить общеарабские
интересы. Хотя война не принесла победы Ираку, она наглядно продемонстрировала,
где находится внешняя угроза. Правда, во время войны иранские арабы, несмотря
на все призывы Багдада, сохранили верность Тегерану. Но, во–первых, неизвестно,
какие формы арабский вопрос внутри Ирана примет завтра, а, во–вторых, любые
панарабистские акции в Персидском заливе, даже прямо не направленные против
Тегерана, косвенно ослабляют его позиции в крайне важном в экономическом и
военном отношении районе. Именно поэтому Тегеран резко реагировал на попытку
Ирака “воссоединиться" с Кувейтом несмотря на то, что главной силой,
противостоящей Багдаду, выступили Соединенные Штаты.
Здесь же, как представляется, заключается и основная
причина непримиримой позиции Тегерана в палестинской проблеме. Поддерживая
непримиримых среди арабов, Тегеран стремится предотвратить или, по крайней
мере, отдалить установление мира между арабскими странами и Израилем, так как
урегулирование арабо–израильского конфликта перенесет главный фокус
панарабизма с Палестины на Персидский залив.
Неменьший прагматизм исламский Иран проявил и в отношении
Советского Союза. Открыто называя нашу страну “малым сатаной” в отличие от
“большого сатаны” – США) и, подавляя местных коммунистов, Тегеран в то же
время фактически опирался на Москву в противостоянии с Вашингтоном. Такое
маневрирование позволяло получить максимум свободы действий во
взаимоотношениях с обеими сверхдержавами.
Чего не предвидел аятолла?
Скончавшийся в конце 80–х годов Хомейни, как явствует из
его “Завещания”, считал советско–американскую конфронтацию долговременной
тенденцией мирового развития. Стремительное исчезновение казавшегося
монолитным Советского Союза, превращение США в единственную сверхдержаву,
появление на месте бывшего советского юга новых государств заставили
преемников Хомейни серьезно скорректировать свою внешнюю политику, причем
иногда в весьма неожиданных направлениях. Так, вместо ожидаемых призывов
покончить с наследием атеистической сверхдержавы (проведенными коммунистами
государственными границами, военным присутствием Москвы) и поддержки борьбы
местных мусульман против “неверных”, Иран занял противоположную позицию. В
вопросе о судьбе компактно населенной армянами части постсоветского
Азербайджана (Карабаха) он по существу оказался (хотя и не безоговорочно) на
стороне христианской Армении. В Таджикистане иранцы стали не поддерживать
исламскую оппозицию против прокоммунистического режима, а пытаться их
примирить. Одновременно Тегеран недвусмысленно проявил себя не меньшим, если
не большим, сторонником военного присутствия России на бывшем советском юге ,
(в Закавказье и Центральной Азии), чем сама Москва.
Наиболее простое объяснение "непоследовательности" Ирана –
конъюнктурный поиск любых противовесов оставшейся единственной сверхдержаве –
США. Но такого объяснения явно недостаточно. Военное присутствие России в
Закавказье и Центральной Азии сегодня, спустя несколько лет после
антикоммунистического, антиимперского переворота в Москве и распада СССР, не
представляет угрозы ни для Вашингтона, ни для его союзников. Еще меньшей
опорой антиамериканизма представляются Ереван и тем более Душанбе.
Правда, определенный резон в добрососедских отношениях с
бывшим советским югом, с точки зрения иранского противостояния с Соединенными
Штатами, действительно существует. Экономическая блокада, которой Вашингтон
пытается подвергнуть Тегеран, безусловно, увеличивает заинтересованность Ирана
в союзниках и партнерах на севере. Но если такое объяснение еще можно принять
в отношении Туркменистана, недавно соединившего свою железнодорожную сеть с
иранской, то в отношении Армении и Таджикистана нет. Ведь в Закавказье
примыкающий к Каспийскому морю и граничащий с Россией Азербайджан, с точки
зрения торгово–экономических связей, безусловно, более ценен, чем не имеющая
выхода к морю и не граничащая с Россией Армения. Что же касается Таджикистана,
то он, не имея общей границы ни с Ираном, ни с Россией, вообще находится на
обочине путей, идущих через Центральную Азию. Поэтому основную пружину
политики Ирана на бывшем советском юге целесообразно искать не в
антиамериканизме или торгово–экономических интересах, а в чем–то ином.
Как известно, после ухода в прошлое и СССР, и советско–американской
конфронтации Тегеран, прежде маневрировавший между двумя сверхдержавами,
оказался перед лицом принципиально новых вызовов. Главный из них – серьезные (реальные
или потенциальные) этнические сдвиги вокруг Ирана, которые могут поставить под
вопрос его государственное единство. Прежде всего это касается северных границ,
где вместо единого тоталитарного государства с преобладанием славянского
населения, появились три государства – Азербайджан, Армения, Туркменистан.
Более того, в их непосредственном "тылу" оказались и другие республики бывшего
советского юга: Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан. Раньше
единственным суверенным тюркским государством выступала Турция своим
откровенно светским устройством и союзом с США противостоящая Ирану. Теперь же
тюркских государств стало шесть: Турция, Азербайджан, Туркменистан,
Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан.
Таким образом, на севере и северо–западе Ирана возникла
почти сплошная "тюркская дуга", которую разрывает лишь небольшой участок ирано–армянской
границы. Конечно, еще одним просветом можно считать Каспийское море, до сих
пор совместное владение прибрежных государств – Ирана, Азербайджана,
Туркменистана, Казахстана и России. Но набирающая силу тенденция раздела
Каспия между ними фактически замыкает "тюркскую дугу" и здесь. Все это не
может не тревожить Иран, тем более что после распада СССР заложенный при
создании тюркских советских республик механизм "этнической ориентации" в южном
направлении может заработать уже самостоятельно. Это ярко проявилось в
постсоветском Азербайджане, лидеры которого, переименовав азербайджанский язык
в тюркский, открыто заявили о принадлежности своей страны к тюркскому миру.
Конечно, пантюркизм, понимаемый как объединение всех тюрков
в одном государстве, – утопия. Но как координация позиций по каким–то вопросам
(скажем, Карабаху или иранскому Азербайджану) он возможен. Этого не могут не
понимать лидеры Ирана. Естественно, в армяно–азербайджанском противостоянии
они фактически поддерживают армянскую сторону, этническая ориентация которой
направлена не против Ирана, а против постсоветского Азербайджана.
В своем противостоянии пантюркизму и панарабизму Тегеран
пытается опереться на паниранизм и панисламизм. Как известно, народы,
связанные с Ираном общностью или близостью языка, живут и в других
государствах Ближнего и Среднего Востока, Центральной Азии. Это курды Турции и
Ирака, таджики Таджикистана и Афганистана, пуштуны Афганистана и Пакистана. На
фоне роста этнической нестабильности по всему периметру своих границ Тегеран,
естественно, наблюдает за происходящим в “Большом Иране” с особым интересом.
Ведь культурная близость этих народов может как укрепить, так и подорвать
внешнеполитические позиции иранского государства. Так, иракские курды,
благодаря американскому давлению на изгнанный из Кувейта Багдад, сегодня
пользуются широкой автономией. Связывая свои надежды с США, они, конечно, не
могут служить базой иранского влияния. Не могут играть такую роль и турецкие
курды. Ведя вооруженную борьбу с американской союзницей Анкарой, они сохраняют
приверженность марксизму–ленинизму, откровенно враждебному государственному
устройству Ирана. Кроме того, использовать "курдскую карту" в своих интересах
Тегерану всегда мешали собственные курды, которые в борьбе против властей
также прибегали к помощи внешних сил.
Пуштуны же вообще никогда не отличались симпатиями к
Тегерану. Более того, составляя значительную часть населения Пакистана и играя
ведущую роль в Афганистане, они всегда решительно отвергали претензии Ирана
даже на "культурную гегемонию". Поэтому единственной естественной зоной
влияния Ирана в последние годы стали районы расселения таджиков в Центральной
Азии и Афганистане. Сегодня Таджикистан, еще недавно неотъемлемая часть
советской Центральной Азии, – суверенное государство. В Афганистане после
многолетней борьбы с коммунистами и массовой миграции местных пуштунов в
Пакистан таджики вышли на первый план. Все это не может не радовать Тегеран.
Но радость сопровождается немалыми опасениями. Межклановая война в
Таджикистане, вытеснившая часть местного населения в соседний Афганистан,
подрывает государственное единство обоих государств. "Воссоединение" таджиков
по обе стороны афгано–таджикской границы может привести к такому соотношению
между противоборствующими кланами в Таджикистане, а также таджиками и
пуштунами в Афганистане, которого обе страны не выдержат. Волны от возможной
дезинтеграции Таджикистана через распад Афганистана и последующий “взрыв”
афгано–пакистанской границы “воссоединением” пуштунов Афганистана и Пакистана
дестабилизируют весь восточный фланг Ирана. Более того, распад Таджикистана
нанесет и прямой удар по интересам Тегерана, во–первых, самим фактом
исчезновения независимого государства таджиков, а, во–вторых, возможным
сохранением его, но уже под тюркским контролем. Оказавшись перед лицом
дезинтеграции Таджикистана, граничащий с ним и частично населенный также
таджиками Узбекистан скорее всего будет вынужден ввести в страну свои войска.
Причем как успех, так и неудача действий Ташкента (и как вероятное следствие
дестабилизация самого Узбекистана) явно не в интересах Ирана.
На первый взгляд, нейтрализации всех подобных угроз Тегеран
может добиться, опираясь на панисламизм, призывающий к политическому
объединению мусульман всех стран. Действительно, разве Иран – воплощение
победившей исламской революции – не выступает естественным центром для всех
истинных приверженцев мусульманской религии и на Ближнем и Среднем Востоке, и
в Центральной Азии, и в Закавказье? Несмотря на внешнюю логичность подобных
рассуждений, они далеки от реальности. Сам ислам, как отмечалось, расколот на
противостоящие течения суннитов и шиитов. В свою очередь, те и другие делятся
на более мелкие объединения правоверных, также находящихся друг с другом в
сложных взаимоотношениях. К тому же интерпретация даже одного направления
ислама различными этническими группами, как правило, резко отличны. Поэтому
возможности Ирана, одной из немногих мусульманских стран с большинством
шиитов, оказывать определяющее влияние на процесс политизации ислама в
современном мире на деле весьма ограничены. Не случайно исламские
фундаменталисты среди суннитов считают исламскую революцию в Иране лишь
предпосылкой к подлинному возрождению ислама, возможному лишь на базе их
собственной интерпретации этой религии. На этом фоне, кстати, весьма
сомнительна искренняя заинтересованность Тегерана в успехе исламских революций
в других мусульманских государствах. Руководимые суннитами–фундаменталистами
такие государства неизбежно подорвут ту, пусть и небезоговорочную, монополию
на святость в мусульманском мире, которой сегодня, несмотря на раскол между
суннитами и шиитами все же пользуется Тегеран. Поэтому, как не кажется на
первый взгляд парадоксальным, возможности Исламской республики Иран опереться
на панисламизм невелики.
В этих условиях одним из главных, если не главным союзником
Тегерана выступает Россия. Ее военное присутствие в Закавказье и Центральной
Азии сдерживает процессы, которые, предоставленные сами себе, могут сильно
ударить по Ирану. Наиболее ярко это проявляется в Таджикистане, до сих пор
остающемся единым благодаря Москве.
Но и во всей Центральной Азии, как впрочем и в Закавказье
стабилизирующий эффект России очевиден. Не случайно именно постсоветский
Азербайджан, единственное из всех государств на северных границах Ирана, где
нет российских солдат, внушает сегодня серьезные опасения иранским политикам.
Как Тегеран, так и Москва жизненно заинтересованы в предотвращении и
разрешении этнических кризисов на бывшей периферии советской империи, основы
которых заложили коммунистические стратеги. И именно в этом, а отнюдь не в
антиамериканизме основа сотрудничества обеих стран.
Форма и содержание
Распад СССР и превращение Соединенных Штатов в единственную
сверхдержаву породили в американской политологии два, казалось, исключающих
друг друга тезиса. Первый утверждает: либеральная демократия, одержав победу
над коммунизмом, практически не имеет больше серьезных врагов. Второй: будущее
планеты – борьба различных цивилизаций. Наиболее ярким выражением такого
противостояния сторонники второго тезиса обычно считают взаимоотношения
либерально–демократических Соединенных Штатов и Ирана, "фундаменталистского
террористического государства". Между тем внимательный анализ "иранской
модели" показывает, что ее суть отнюдь не сводится к терроризму, которому,
конечно, не должно быть места в цивилизованном обществе.
Обычно любая конституция утверждает: источник власти –
народ. На практике это положение в разных странах трактуется по–разному и
означает порой вещи противоположные. Тем не менее его присутствие в основном
законе – обязательный ритуал. Иное дело – Исламская республика Иран. Верховная
власть, утверждает конституция этого государства, – Бог, а люди могут лишь
толковать и исполнять божественные предначертания. Казалось бы, здесь налицо
явная ориентация на далекое прошлое. Сразу вспоминаются средневековые
мусульманские государства Ближнего и Среднего Востока. Тем более, что сам
Хомейни не раз указывал на времена пророка Мухаммеда (VII в.) как образец
подлинно исламского правления.
Но считать конституцию Ирана ориентированной на прошлое
неверно. Выполнять волю Бога в исламе означает действовать в соответствии с
мусульманским правом, которое представляет не некий законченный свод правил
поведения на все случаи жизни, а весьма гибкую законодательную систему. Эта
система имеет 4 источника: священное писание
Коран (в котором сами мусульманские богословы находят много
противоречий); священное предание (рассказы о жизни пророка Мухаммеда у
суннитов, рассказы о жизни пророка и его двоюродного брата, зятя Али у
шиитов); весьма свободное суждение по аналогии и мнение мусульманской общины.
Причем, что именно и в каких пропорциях взять из каждого источника для решения
конкретного вопроса, зависит не только от богословов, но и от простых
мусульман. Ведь в исламе нет замкнутого и строго иерархически организованного
духовенства, а каждый мусульманин, имеющий минимум богословских знаний, может
выступать в качестве муллы. Более того, даже совершенно не разбираясь в
теологии, мусульманин носит в себе частицу божественной мудрости, так как
мнение мусульманской общины – один из источников мусульманского права. Выборы
и выборность – институты, через которые также выражается божественная воля.
Сочетание особых прав духовенства (играющего у шиитов
традиционно более важную роль, чем у суннитов) и принципа выборности в Иране
создали очень прочную, гибкую систему власти, в сущности гораздо более
демократическую, чем во многих странах Ближнего и Среднего Востока. Если там
существует жесткая пирамида власти, то здесь этого нет. Широкие права
парламента в Иране не идут ни в какое сравнение с ролью представительных
учреждений в Ираке, Сирии, Египте, арабских монархиях Персидского залива.
Переиначивая известное выражение древних, можно утверждать: в Иране глас божий
– глас народа.
Конечно, такой глас нередко подавляет, порой очень жестко,
и отдельные группы населения, и особенно отдельных людей. Но происходит это
обычно все–таки более мягко, чем во многих странах мира. "Нарушения прав
человека в Иране,– подчеркивалось на страницах вашингтонского журнала ("Форин
полиси", 1994, № 96) ужасны. Но по сравнению с саудовцами или сирийцами – ныне
сотрудничающими с американцами – разве иранцы удерживают первенство на Ближнем
и Среднем Востоке? Иранская демократия находится в зачаточном состоянии. Она
ограниченна и раздражительна, но конституционна, ощутима и преемственна. Можно
ли в Саудовской Аравии, Сирии или Египте найти парламент, который соперничал
бы с иранским? В Иране свобода слова, особенно политических выступлений,
зачастую резко ограничена и наказуема, но под надзором цензоров отзвуки
различных суждений в обществе – иногда с косвенным, но осуждающим клерикализм
смыслом – находят отражение в газетах, книгах, театре и кино".
Полемика в современном Иране касается не только сути
исламского режима, но ставит под вопрос и сам этот режим. Многие духовные лица
считают, что слияние с государственной властью ведет духовенство к утрате
влияния среди населения. Некоторые из них выступают и за радикальную
политическую либерализацию. Светские силы, имея возможность выражать свои
взгляды в печати, активно поддерживают эти тенденции среди духовенства. Причем
такая деятельность, как в духовной, так и в светской среде, ведется почти
беспрепятственно.
Подобно другим странам, Иран сегодня переживает серьезные
экономические трудности, обостренные быстрым ростом населения. Добыча нефти,
экспорт которой дает 80 процентов государственных доходов, со времен шаха
резко упала. Во второй половине 70–х годов ежегодные доходы правительства от
продажи нефти достигали 22 млрд.долл. при численности населения в 30 млн..,
сейчас они составляют 14 млрд.долл. при численности населения в 60 млн.
Среднемесячный уровень зарплаты в государственном секторе тогда составлял
примерно 500 долл., а сегодня лишь 100 долл.
Тем не менее исламский режим, который в первые годы
проводил политику огосударствления экономики, ныне твердо взял курс на
приватизацию и рыночные реформы. О желании Тегерана идти дальше по избранному
пути говорит, в частности, его программа создания свободных экономических зон.
Как известно, такие зоны – один из самых эффективных способов превращения
централизованной экономики в рыночную. Тем самым под политическую систему
Ирана, в сущности, весьма либеральную на фоне других стран Ближнего и Среднего
Востока подводится и соответствующая экономическая база.
Противоречия реальные и мнимые
"Либеральный" и "цивилизационно–конфронтационный" подходы в
американской социологии формально противоположны. На деле же они неплохо
дополняют друг друга. Да, либерализм победил как наиболее жизнеспособная
система и сегодня так или иначе служит ориентиром для всех стран мира. Но
проблема в том, что в силу многих обстоятельств либерализм не может везде
пустить корни такими способами и такими методами, как в Европе, США или
Японии. Во многих случаях (в частности, в иранском) он вынужден делать первые
твердые шаги в формах, которые отталкивают западного либерала. Но только такие
формы и позволяют либерализму необратимо проникнуть в те районы мира, чья
цивилизация плохо совместима севроамериканской и где само слово "либерализм",
в силу тех или иных обстоятельств, вызывает негативные эмоции. Видимо, в этом
главная причина того, что видные иранцы, публично осуждающие западный образ
жизни, посылают своих детей учиться на Запад, а призывы к вступлению Ирана в
международные экономические организации и привлечению иностранного капитала
сопровождаются требованиями отразить культурное вторжение извне.
Если не явное осознание, то инстинктивное ощущение
закономерности совмещения, казалось, несовместимого в Иране уже давно
присутствует в Европе, которая граничит с Ближним и Средним Востоком, и имеет
многовековой опыт взаимодействия с регионом. К тому же ислам здесь не только
внешний, но и внутренний фактор. На Балканах, на развалинах коммунистической
Югославии недавно появилось самостоятельное мусульманское государство –
Босния. К ней в будущем может присоединиться и Албания. Хотя десятилетиями
местные коммунисты открыто приравнивали религию к уголовному преступлению,
исторически и культурно подавляющее большинство жителей страны – мусульмане. В
Болгарии мусульманская община, от которой коммунисты пытались избавиться и
насильственной "болгаризацией", и выселением в Турцию, сегодня имеет немалый
политический вес.
Правда, на Балканах исламский фактор – своеобразное
возрождение реалий прошлого. Ведь еще в XIX веке район входил в состав
Османской империи. Но ислам как, если не политическая, то культурная сила,
дает о себе знать и в тех европейских странах, которые не только не входили в
состав мусульманских империй, но и в свое время успешно им противостояли.
Наиболее яркий пример – Франция. Как известно, много веков назад предки
современных французов остановили мусульман завоевавших Пиренейский полуостров
и пытавшихся прорваться вглубь Европы. Сегодня же, на фоне уменьшения
численности коренных французов и увеличения мусульманской общины внутри
Франции, пророчество Нострадамуса о будущем превращении страны в мусульманскую
не выглядит уже таким несбыточным, как прежде.
Несостоятельность попыток противостоять паразитирующему на
особенностях и проблемах исламского мира мусульманскому экстремизму
исключительно конфронтационными методами властно заставляет европейцев искать
нетрадиционные, гибкие формы воздействия на нервные центры современного ислама
за пределами Европы. Одним из таких центров сегодня, безусловно, выступает
Иран. Не случайно, несколько лет назад европейское сообщество завязало с
Тегераном "критический диалог" – развитие экономических связей с перспективой
политического сотрудничества. Правда, недостаточно быстрый, по мнению
европейцев, отход Тегерана от экстремизма затормозил процесс. В вину Ирану
вменяются: смертный приговор писателю Рушди (английскому гражданину выходцу из
мусульманской общины Индии), вынесенный ему за "оскорбление ислама" еще
Хомейни; одобрение террористических актов против Израиля и убийство
израильского премьер–министра. Но, несмотря на возникшие проблемы, общее
направление взаимоотношений с Ираном, как представляется, европейцы выбрали
верно.
При анализе вешней и внутренней политики Ирана в последнее
пятилетие рост умеренных тенденций за счет радикальных очевиден. К тому же,
если рассмотреть внимательно, что вменяется сегодня в вину Тегерану, можно
прийти к выводу: эа все, кроме дела Рушди (имеющего сегодня скорее
символическое, чем практическое значение) иранское руководство особой
ответственности не несет. Террористические акты против Израиля осуществляют
организации с базами в Ливане, где определяющее влияние имеет отнюдь не Иран
(не обладающий с этой страной даже общей границей), а Сирия. К тому же, как
справедливо подчеркивает Гэри Сик (бывший эксперт по Ирану в администрации
Картера), Тегеран сегодня вообще слишком беден, чтобы активно субсидировать
террористов ("Ньюсдей", Нью–Йорк, 1996, 16 марта). Что же касается убийства
израильским правым экстремистом премьер–министра Израиля, то в этом Иран уж
никак обвинить нельзя. Кстати, нынешнее ухудшение израильско–арабских
отношений после прихода к власти в Израиле правительства правых может
способствовать "смягчению" позиции Ирана по отношению к еврейскому
государству. Ведь теперь удержанию фокуса панарабизма на Палестине, а не на
Персидском заливе объективно будет способствовать уже само израильское
руководство.
В отличие от Европы Соединенные Штаты продолжают однозначно
рассматривать Иран как террористическое государство, лучшим способом
взаимоотношений с которым служила бы политическая и экономическая изоляция
этой страны. В русле таких представлений Вашингтон пытается проводить в
отношении Тегерана политику экономического бойкота. При этом совершенно не
учитывается объективная закономерность существования в Иране именно того
режима, который имеет место.
Любые попытки радикально изменить нынешний режим давлением
извне может вызвать либо укрепление в нем экстремистских тенденций (что,
впрочем, мало вероятно), либо (что возможнее) срыв модернизации и резкое
усиление социальной и межэтнической напряженности. И тот, и другой варианты не
только не снимут проблему исламского терроризма (который имеет гораздо более
глубокие корни, чем субъективные устремления Хомейни или его преемников), но
скорее обострят ее.
В свое время, нанеся военное поражение Ираку, Соединенные
Штаты предпочли резко ослабить, но не свергать Саддама Хусейна. Причиной тому
– опасения, что ему на смену придет воинствующий исламский режим. Видимо,
тогда американцы реагировали адекватно. Сегодня же по отношению к Ирану их
политика скорее дань воспоминаниям о первых годах исламской революции, чем
отражение объективной реальности. Упорно воплощаемые в политику предрассудки и
отсутствие гибкости в перспективе чреваты серьезными потрясениями. Правда, они
могут прямо и не затронуть Соединенные Штаты. Как известно, США отделены от
Ближнего и Среднего Востока океанскими просторами, а исламский фактор в
Америке не столь значителен, как по другую сторону Атлантики. Но для Европы и
России издержки могут оказаться весьма чувствительными. Судьба нашей страны не
в меньшей степени, чем судьба Европы, исторически, культурно и политически
"завязана" с Ближним и Средним Востоком. До сих пор Россия с этим регионом не
имеет даже собственных полноценных границ. В Закавказье и Средней Азии
проживают миллионы этнических россиян, большинство которых мечтает вернуться
на историческую родину, но не может сделать это немедленно. Молодые
постсоветские государства здесь, пытаясь встать на собственные ноги,
сталкиваются и будут сталкиваться с серьезнейшими и опаснейшими проблемами.
Подрыв, а не эволюция нынешнего исламского режима в Иране, жизненно
заинтересованного в стабилизации в Закавказье и Центральной Азии, может
стимулировать этнические катаклизмы на бывшей периферии советской империи.
Это, в свою очередь, неизбежно втянув Москву в активное военное вмешательство,
крайне затруднит, если не подорвет, переход России на рельсы того современного
развития, по которым уже давно идут Соединенные Штаты.
|